Юридическая сила как критерий построения иерархии источников права
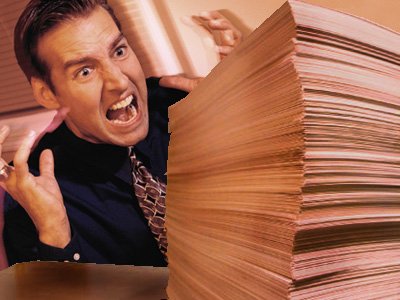
В советском и постсоветском правоведении в качестве
конвенционального понятия, описывающего критерий определения места источника
права в иерархической системе, используется "юридическая сила".
Такое традиционное
понимание юридической силы выражено, например, в учебнике по теории государства
и права под редакцией В.В. Лазарева, в котором подчеркивается, что
юридическая сила является "основным критерием отнесения нормативного акта к
тому или другому виду… указывает
на место акта, его значение, его верховенство или подчиненность, зависит от
положения и роли органа, издавшего акт, от конституционных его полномочий и
компетенции, которой он наделен по действующему законодательству" (Общая теория
права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996. - C.
144).
На настоящий момент в России отсутствует легальное определение юридической силы. Вместе с тем, к примеру, в законодательстве Республики Беларусь официально закреплено определение юридической силы как характеристики нормативного правового акта, определяющей обязательность его применения к соответствующим общественным отношениям, а также его соподчиненность иным нормативным правовым актам (ст. 1 закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000. - № 7, 2/136).
Однако следует обратить внимание на то, что в
литературе "юридическая сила" может использоваться как для характеристики обладания ее носителя "юридической
энергией", так и для количества данной
юридической энергии.
Так, В.А. Толстик подчеркивает двоякий смысл, вкладываемый в понятие "юридическая сила": "В правоведении юридическая сила понимается в двух смыслах. С одной стороны, как свойство правовых актов реально действовать, фактически порождать юридические последствия. В этом смысле говорят о вступлении в действие, приостановление действия, прекращении действия нормативного правового акта или его части. С другой стороны, как сопоставительное свойство, выражающее степень подчиненности данного нормативного акта актам вышестоящих органов, а значит, и его место в иерархической структуре законодательства" (Толстик В. А. Иерархия источников российского права: Монография / В.А. Толстик. – Н. Новгород: Общество "Интелсервис", 2002– С.21). Подобное разграничение проводит и А.А. Белкин: "Обладание акта силой — это сохранение однажды выраженного в установленном порядке волеизъявления компетентного субъекта правотворчества по поводу изданного им акта. В отличие от обладания силой действие акта — это поведение адресатов акта в соответствии с установленными в нем нормами" (Белкин А.А. Юридические акты: Обладание силой и действие /А.А. Белкин // Правоведение. – 1993. – № 5- С. 5).
Похожим образом рассуждает и А.В. Поляков: "Действие
права и действие правовых норм следует отличать от действия нормативно-правовых
актов. В последнем случае под действием чаще всего понимают не фактическую
способность правового акта определять права и обязанности субъектов. а наличие
у него так называемой юридической силы. Юридическая сила акта указывает на его
государственно-волевое признание и занимаемое место в иерархии других правовых
актов. Законодательный акт может иметь юридическую силу, но не действовать, т.
е. оставаться "мертвым", "клочком бумаги". Но и действие государственно-признанного
акта невозможно без обретения им юридической силы" (Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы
интерпретации в контексте коммуникативного подхода / А. В. Поляков. – СПб.:
Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. – С.
624-625).
На уровне формы права юридическая сила во втором
значении традиционно понимается как критерий
выделения различных уровней в иерархии.
На ее основе субъекты правоотношений определяют старшинство и
подчиненность одних источников права другим и выбирают тот (те), которым(и)
будут руководствоваться в своей деятельности.
Проведенный анализ литературы позволяет выделить
несколько свойств юридической силы источников права:
1. Юридическая сила есть критерий
опознания юридических нормативно-регулятивных средств среди иных социальных
регуляторов, претендующих на общеобязательность. По мнению Ю.Е.
Пермякова, "юридическая сила
характеризует собою действие правовой нормы, взятой в противоположность
моральному, политическому или нравственному требованию и ограничивающей их
возможности непосредственного регулятивного воздействия" (Пермяков Ю.Е.
Юридическая сила правовых суждений /Ю.Е. Пермяков // Юридический аналитический
журнал. – 2003. – № 4 – С. 8). Похожим образом рассуждает и Н.Н. Вопленко,
согласно позиции которого особенность государственного санкционирования
правовых норм, исходящих от субъектов, прямо не наделенных правотворческими
полномочиями, "состоит в том, что в результате этого происходит "возведение в
закон", то есть наделение юридической силой правил общественного поведения,
которые не обладали до этого свойством государственной обязательности"
(Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учеб. пособие /Н.Н. Вопленко –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 6).
2. Юридическая сила является сопоставительным свойством, позволяющим установить место источника права и отдельного нормативного-регулятивного средства в вертикальном срезе формы права. В этом срезе А.П. Заец подчеркивает, что юридическая сила "характеризует систему законодательства с точки зрения статики, т.е. определяет лишь принципы соотношения и зависимостей различных предписаний друг от друга, без учета иных зависимостей, возникающих в процессе непосредственного регулирования (динамики) общественных отношений…" Причем иерархические связи, построенные на основе юридической силы, формируют "вертикальную структуру законодательства, определяя последовательность и обусловливая неизменность в субординационном расположении нормативных предписаний" (Заец А.П. Система советского законодательства (проблема согласованности) / А.П. Заец. – Киев: Наукова думка. – 1987. – С. 52).
Аналогично, В.М. Сырых пишет о юридической силе как о критерии классификации системы НПА (Сырых В.М. Логические основания общей теории права / В.И. Сырых; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2000. – Т. 1. – С. 59.
С.С. Алексеев указывает, что юридическая сила является "главным признаком, определяющим место того или иного акта в иерархической структуре" (Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т / С.С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1982.– С.218). Аналогично И.Е. Фарбер и В.А. Ржевский рассматривали юридическую силу как сопоставительное свойство различных нормативно-правовых актов (Фарбер И.Е. Вопросы теории советского конституционного права. Вып. I /В.А. Ржевсккий, И.Е. Фарбер. – Саратов, 1967. – С. 70).
На данную черту юридической силы обращал внимание и И.С. Зивс: "…различная степень юридической силы источников права есть одно из выражений их строгой фиксации в рамках вертикальной структуры системы" (Зивс С.Л. Источники права / С.Л. Зивс; Отв. ред. В.П. Казимирчук; АН СССР. Ин-т государства и права. – М.: Наука,1981. - С. 36).
Югославский профессор
Б. Пупич, рассматривая иерархию источников права как вертикально построенную
шкалу, указывает, что "правовая сила представляет собой… степень влияния одного
правового акта на другой, от чего зависит положение акта на шкале" (цит. по: Мицайков,
М. Иерархия в праве /М. Мицайков //Вестник Московского университета. Сер. 11,
Право. -1999. - № 6. - – С. 67).
3. Юридическая сила характеризует отношения власти и подчинения
на уровне формы права. В данном контексте А. В. Мицкевич определял
юридическую силу актов как "свойство, выражающее соотношение данного вида актов
с другими видами актов государственных органов, его место в системе правовых
актов". Он подчеркивал, что юридическая сила есть "только те качества
(свойства), которые характеризуют то или иное влияние самих актов на нормы или
иные предписания, ими установленные, на другие акты и т.п." (Мицкевич А.В.
Юридическая природа актов правотворчества высших органов государственной власти
и управления СССР: Дисс. ... д-ра юрид. наук. /А.В. Мицкевич. – М., 1967. – С.
173). Причем "акт низшей юридической силы не должен противоречить актам более
высокой юридической силы, не может изменять или отменять их" (Мицкевич А.В.
Акты высших органов Советского государства: Юридическая природа нормативных
актов высших органов государственной власти и управления СССР /А.В. Мицкевич. –
М.: Юрид. лит., 1967– С. 7).
Похожим
образом рассуждает профессор Н.
Вискович, когда указывает на то, что юридическая сила – это "пределы влияния
одного правового акта на другой, при котором одна норма или соответствующий
правовой акт определяют функционирование, содержание и форму других правовых
актов (норм)" (Цит по: Мицайков М. Иерархия в праве...– С. 67). С.В. Поленина и
Н.В. Сильченко указывают, что юридическая сила НПА – это "его главный признак, сопоставительное
свойство, выражающее степень подчиненности данного нормативного акта актам
вышестоящих органов, а значит, его место в иерархической структуре
законодательства" (Поленина С.В., Сильченко Н. В. Научные основы типологии
нормативно-правовых актов в СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко; Отв. ред. Р.О.
Халфина; Академия наук СССР. Институт государства и права. – М.: Наука,1987. – С. 27).
4. Юридическая сила является одним из индикаторов позиции
органа или иного субъекта, создавшего тот или иной источник права, в системе
организации публичной власти в обществе. Я.М. Магазинер писал о
юридической силе как силе велений властей,
расположенных в системе "старшинства и подчиненности одних властей
другим в виде лестницы, поднимаясь по которой, мы находим органы власти
возрастающей авторитетности и силы, пока не дойдем до суверенной, т. е.
такой, которая выше других, но выше которой других нет" (Магазинер Я.М. Общая
теория права на основе советского законодательства. Глава 3. Источники права / Я.М.
Магазинер // Правоведение. – 1998. – № 2. – С. 32).
По сходному мнению И.С.
Самощенко, юридическая сила выражает степень подчиненности данного нормативного
акта актам вышестоящих органов, осуществление принципа верховенства
конституции, других законов (Самощенко И. С. Основные черты нормативных актов
социалистического государства /И.С. Самощенко // Советское государство и право.
– 1968. – № 4. – С. 25).
Югославский профессор Н. Вискович указывает: "…одинаковой
правовой силой обладают нормы, созданные субъектами права одного и того
же ранга по шкале политической и экономической мощи… Неодинаковой правовой
силой обладают нормы, создаваемые субъектами права разных рангов по шкале
общественной силы; процедура их принятия тоже неодинакова, и они определяют
друг друга" (Цит по: Мицайков М.
Иерархия в праве...– С. 66).
5. Юридическая сила служит критерием
приоритета того или иного нормативно-регулятивного средства в случае
иерархической коллизии. Так Д.И. Здунова пишет: "Юридическая сила
правового акта выражает соотношение одного акта с другим и определяет место,
которое он занимает в системе правовых актов… определяет приоритеты между
актами и очередность актов, которые будут действовать в случае возникновения
противоречия между ними" (Здунова Д.И. Юридическая сила правовых актов: Дисс. …
канд. юрид. наук /Д.И. Здунова. – Казань, 2005.– С. 51).
В
отечественной литературе принято разграничивать юридическую силу и обязательность источников права. Как
отмечал В.Ф. Коток, юридическая сила
"может быть большей или меньшей, это регулятивное свойство правового акта,
проявляющееся в соотношении с другими актами. Обязательность же не имеет
степеней и представляет собой абсолютное качество любого законного акта. Нельзя
представить себе степень обязательности, не уничтожая ее самой. Государство
одинаково требует соблюдения любого правового акта независимо от степени его
юридической силы" (Коток В.Ф. О предмете и источниках конституционного
права социалистических стран. /В.Ф. Коток // Конституционное право
социалистических стран. – М., 1963. - С. 81).
Своим содержанием юридическая сила, как представляется,
охватывает все существенные стороны проявлений иерархичности на уровне формы
права. В этом плане интересна мысль Ю.Е. Пермякова, что сущность
юридической силы и правовых норм, и индивидуальных актов "заключается в
принуждении к такому дискурсу, где суждение приобретает императивный характер
благодаря соблюдению процедуры, в которой происходит становление инстанции как
высшей институциональной формы авторитетного суждения" (Пермяков Е.Ю.
Философские основания юриспруденции. Монография /Е.Ю. Пермяков. – Самара:
Самар. гуманит. акад. - 2006. С. 110). Поэтому юридическая сила "обнаруживает себя как императив языка, на
котором люди заявляют о себе как о субъектах правового общения" (Там же.–
С. 111).
Проанализируем данную проблему в сравнительно-правовом
аспекте.
В концепции
права Герберта Харта понятию "юридическая сила" наиболее близко по
смыслу понятие "rule of recognition" – "правило признания" как критерий опознания права в определенной правовой системе.
Как пишет С.А. Дробышевский, Г. Харт полагал, что "критерий юридической
действительности или источник права является высшим, если правила, опознаваемые
посредством обращения к нему, все же признаются" в обсуждаемом государстве
юридическими "при противоречии нормам, опознаваемым с помощью других критериев,
в то время как правила, опознаваемые посредством применения" этих более низких
мерил, здесь не признаются юридическими "в случае их противоречия нормам,
опознаваемым при использовании высшего критерия" (Дробышевский С.А. История
политических и правовых учений: основные классические идеи: учеб. пособие /
С.А. Дробышевский. – 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2007 - С. 449).
В теории права Ганса Кельзена синонимом "юридической
силы" является понятие "действительность
правовой нормы" ("geltung" (нем.), "validity" (англ.)),
которая понимается как специфическое существование, свойственное
норме, основанное на ее
подчинении (в соответствии со статическим либо динамическим принципами)
вышестоящим нормам – вплоть до основной нормы.
Вообще, в англоязычных источниках для обозначения
семейства понятий, связанных с действительностью или юридической силой
каких-либо нормативных фактов, используется термин "validity".
Так, электронный словарь Lingvo 9.0. (специализированная база юридической терминологии "law") переводит данное слово на русский язык так: "1) юридическая сила; юридическая действительность; юридическое действие 2) период действия 3) обоснованность, основательность".
Проведенный выборочный анализ смыслового значения "validity" в англоязычной литературе[1]
позволяет выдвинуть следующую гипотезу: хотя данный термин может
характеризовать различные аспекты бытия форм проявления права (законность,
действительность, обладание силой, обязательность), но наличие в нем определенной константы
содержания позволяет выделить именно данное понятие как базовое, которое используется
в англоязычной литературе, для характеристики критерия иерархического ранжирования уровней формы права.
Аналогично понятие "юридическая
сила" в отечественной литературе также
обладает конвенциональным значением, позволяющим использовать его в качестве базового
понятия, описывающего критерии построения организационной
иерархии на уровне формы права. Отдельного анализа требует проблема возможности
использования данного понятия на уровне реализации права (при описании иерархии
индивидуальных актов).
Таким образом, проведенное
исследование позволяет определить юридическую силу как критерий построения
организационной иерархии на уровне формы права, выражающий количественную меру
юридической энергии определенного элемента внутренней и внешней формы права и
проявляющийся в возможности элемента вышестоящего уровня задавать формальные
(уровни и сферы регулирования) и содержательные
(модели поведения) характеристики элементам нижестоящих уровней.
Александр Александрович Петров,
к.ю.н., старший преподаватель кафедры теории государства и права Юридического
института Сибирского федерального университета
[1] Работы: Kelsen H. On the theory of interpretation // Legal
Studies. – 1990. – Vol. 10.- Issue 2. – P. 127-135; Varga C. Validity // Acta
juridica hungarica. 2000. 41. Nos 3-4, pp. 155-166; Navarro
P. E., Moresso J. J. Applicability and effectiveness of legal norms // Law and Philosophy 1997 № 16 201–219;
Munzer S. Validity and legal conflicts // Yale Law Journal. 1973. May; Paulson
S.L. On the implication of Kelsen’s doctrine of hierarchical structure // The
Liverpool law review/ Vol. XVIII(1). 1996. P. 49-62; Sartor G. Legal validity as doxastic obligation: from definition to normativity // Law and Philosophy. – 2000. N 19. P. 585–625; Ruiter D. W.P. Legal
validity qua specific mode of existence // Law and Philosophy – 1997. N 16. P. 479–505.








